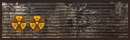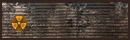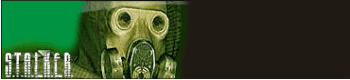Он был кадровым офицером и потомственным военным; он не раз участвовал в боевых действиях и пользовался уважением со стороны как командования, так и однополчан. После службы за рубежом его отозвали в Москву делиться боевым опытом с войсками метрополитена, привыкшими к формальной службе. Должность была удручающе тоскливой, но зато теперь он мог жить в казарме с женой и двумя дочерьми, первые годы жизни которых прошли без отца.
Приказ поступил за час до падения бомб. Атака на Москву была неизбежна, а защитные возможности метрополитена — ограничены. Нужно было приготовиться, но при этом не подавать повода к панике. Ему запретили разглашать информацию даже членам семьи. И вот, когда его станция была подготовлена, он приказал солдатам охранять двери, а сам в одиночестве зашагал вглубь станции. Сейчас его жена ведет дочерей домой из школы, вот они трое, взявшись за руки, идут по московским улицам и смеются. Он услышал нарастающий рев снаружи и понял, что время настало.
Стиснув зубы, он следовал инструкциям; он глядел, как отчаявшаяся толпа текла на станцию, ожидая момента, когда количество людей достигнет предельно допустимого. Сколько бы их не попадало внутрь, толпа снаружи только росла и становилась все неистовее. И как бы старательно он ни пытался сосредоточиться на приказах, в лицах проносящихся мимо незнакомых людей ему грезились лица жены и детей. Было облегчением наконец выстрелить в воздух — это был сигнал солдатам закрывать ворота. Рев толпы усиливался, перерастая в вопль, и тогда он и увидел ее: молодую мать с младенцем на руках, прямо за оцеплением. Ее голос умолял, но взгляд, направленный прямо на него, был полон укора. Прижав ребенка к груди, он пошел обратно, и ему представилась жена, глядящая на него с таким же укором. В этот момент ворота закрылись, и нечеловеческий стон отчаяния донесся снаружи.
С момента, когда наверху начались взрывы, стало ясно, что старый режим, которому он был предан и послушен, пал. Приказы, которым он следовал, жертвы, которые принес, — все теперь казалось бессмысленным. Для выживших он был просто человеком, который слишком быстро закрыл двери. Человеком, который обрек их жен, мужей, детей на мучительную смерть. От их взглядов не было спасения.
Всеми отвергнутый, он перебивался, как мог, находя поддержку лишь в глубокой обиде на тех, кто осуждал его. Эта обида подкрепляла его, когда он копался в отбросах, выменивал или выпрашивал себе пропитание. Но он старел, и решимость жить назло всем покидала его. Лица и крики из прошлого снова заполонили его разум, и громче всего прочего был жуткий звук закрывающихся ворот станции.
Ребенка, которого он спас, у него забрали из рук сразу, как только он спустился на станцию. Он так и не узнал, кто это был. Теперь, когда он выпрашивает у людей объедки, всему покорный и отверженный, он всякий раз думает: быть может, этот молодой человек, равнодушно проходящий мимо, — тот самый ребенок? Может, если бы он знал, то поблагодарил бы его за подаренную ему жизнь? Или проклял бы за смерть матери, за всех людей, оставленных наверху?
Приказ поступил за час до падения бомб. Атака на Москву была неизбежна, а защитные возможности метрополитена — ограничены. Нужно было приготовиться, но при этом не подавать повода к панике. Ему запретили разглашать информацию даже членам семьи. И вот, когда его станция была подготовлена, он приказал солдатам охранять двери, а сам в одиночестве зашагал вглубь станции. Сейчас его жена ведет дочерей домой из школы, вот они трое, взявшись за руки, идут по московским улицам и смеются. Он услышал нарастающий рев снаружи и понял, что время настало.
Стиснув зубы, он следовал инструкциям; он глядел, как отчаявшаяся толпа текла на станцию, ожидая момента, когда количество людей достигнет предельно допустимого. Сколько бы их не попадало внутрь, толпа снаружи только росла и становилась все неистовее. И как бы старательно он ни пытался сосредоточиться на приказах, в лицах проносящихся мимо незнакомых людей ему грезились лица жены и детей. Было облегчением наконец выстрелить в воздух — это был сигнал солдатам закрывать ворота. Рев толпы усиливался, перерастая в вопль, и тогда он и увидел ее: молодую мать с младенцем на руках, прямо за оцеплением. Ее голос умолял, но взгляд, направленный прямо на него, был полон укора. Прижав ребенка к груди, он пошел обратно, и ему представилась жена, глядящая на него с таким же укором. В этот момент ворота закрылись, и нечеловеческий стон отчаяния донесся снаружи.
С момента, когда наверху начались взрывы, стало ясно, что старый режим, которому он был предан и послушен, пал. Приказы, которым он следовал, жертвы, которые принес, — все теперь казалось бессмысленным. Для выживших он был просто человеком, который слишком быстро закрыл двери. Человеком, который обрек их жен, мужей, детей на мучительную смерть. От их взглядов не было спасения.
Всеми отвергнутый, он перебивался, как мог, находя поддержку лишь в глубокой обиде на тех, кто осуждал его. Эта обида подкрепляла его, когда он копался в отбросах, выменивал или выпрашивал себе пропитание. Но он старел, и решимость жить назло всем покидала его. Лица и крики из прошлого снова заполонили его разум, и громче всего прочего был жуткий звук закрывающихся ворот станции.
Ребенка, которого он спас, у него забрали из рук сразу, как только он спустился на станцию. Он так и не узнал, кто это был. Теперь, когда он выпрашивает у людей объедки, всему покорный и отверженный, он всякий раз думает: быть может, этот молодой человек, равнодушно проходящий мимо, — тот самый ребенок? Может, если бы он знал, то поблагодарил бы его за подаренную ему жизнь? Или проклял бы за смерть матери, за всех людей, оставленных наверху?